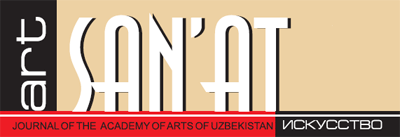Творчество казахского художника Абылхана Кастеева, его жизнь и вклад в развитие культуры уже давно стали предметом пристального рассмотрения как казахстанских, так и зарубежных исследователей. Он оставил в наследие свыше 2000 картин, акварелей и рисунков, которые представляют своеобразную летопись Казахстана ХХ в.
Начальный период творчества А. Кастеева относится к концу 1920-х – 1930-м гг. ХХ в. Именно в этот период в Казахстане происходит сложение европейских видов изобразительного искусства, ставшее важным фактором, характеризующим культурные процессы эпохи. Дело в том, что формирование профессиональной художественной традиции в предшествующие эпохи, особенно в эпоху средневековья, было связано исключительно с культурой городов, каковыми в среднеазиатском регионе в тот период были Бухара, Самарканд, Коканд, Хива, Ташкент и др. В Казахстане, в силу преобладания кочевого и полукочевого образа жизни, традиции урбанистической культуры, профессиональные формы деятельности не имели своего развития, и в этом проявляется одна из специфических черт местного искусства, сказавшаяся на характере и темпах адаптации его к новым формам. Говоря о профессиональных и народных формах, ни в коем случае не имеется в виду их качественный уровень, поскольку лучшие памятники как городского, так и кочевнического искусства, отличаются высоким уровнем исполнения. Художественный уровень казахского искусства, имевшего исключительно народные формы, не уступал уровню “городского” искусства соседних регионов.
Специфика адаптации новых форм искусства в Казахстане связана с относительно поздним, по сравнению с другими республиками, вхождением в систему новых художественных ориентиров, с отсутствием здесь широкого круга русских и других приезжих художников, которые могли бы активно развивать европейские виды искусства.. В приобщении к изобразительному искусству А. Кастеева большую роль сыграл русский художник Н. Хлудов. Обращает на себя внимание и разновекторная направленность исканий А. Кастеева, проявившаяся с первых шагов его творчества. Художник работает как маслом, так и акварелью, не замыкается в рамках определенной темы или жанра, пробуя свои силы в портрете, пейзаже, бытовых, батальных сценах. Но к какому бы жанру он ни обращался, в основе его работ всегда сохраняется сама среда, которая характеризует развитие казахского общества в первые десятилетия ХХ в. – сцены кочевий, степные поселки, горные пастбища, жители аулов.
Традиции народной культуры, ее прикладное искусство и музыкальное наследие, эпос и предания – все то, что составляет неотъемлемую часть мира полотен А. Кастеева, также нашло свое отражение в его творчестве. Богатство цвета и ритм узоров войлочных ковров находят свое продолжение в ряде работ декоративного плана (“Внутренний вид юрты”, 1929 и 1934, “Две казашки”, 1935). Напевы родной земли словно слышатся в раздольных пейзажах, а эпические герои оживают в ряде портретных образов исторического плана (“Батыр”, 1935).
Обращение к жанру портрета стало для А. Кастеева реакцией на события времени, провозгласившего ценность личности, человека, активно входящего в новый мир. Художник не останавливается на умении передавать портретное сходство человека и все пристальнее сосредоточивает внимание на психологической стороне работ. Такие черты таланта А. Кастеева, как подкупающая искренность, трогательная наивность и, вместе с тем, строгость, отражены в его “Автопортрете” (1931) – молодой человек в надвинутой на лоб шапке-ушанке, в наглухо застегнутой на все пуговицы верхней одежде. В этой собранности формы, строгости образа чувствуется характер художника – цельный и целеустремленный, и вместе с тем – закрытый, несколько замкнутый в мире своих мыслей; и лишь болтающиеся завязки от шапки вносят в изображение элемент творческого беспорядка. Каждая черта лица дает возможность говорить о характере портретируемого – плотно сдвинутые губы характеризуют А. Кастеева как человека немногословного и скромного, горизонтальные морщины на лбу говорят о его склонности к постоянным размышлениям, о философском складе ума, а сдвинутые домиком брови выдают в нем натуру ранимую, по-детски непосредственную и бесхитростную. Таким и был А. Кастеев, по воспоминаниям современников.

Большое место в творчестве А. Кастеева занимают портреты таких известных исторических личностей, как Абай, Амангельды Иманов, Чокан Валиханов, Токаш Бокин, народные акыны Джамбул, Биржан-сал, Кенен Азербаев, народный мастер Сарсенбин и др. Работы этого жанра характеризуют гражданскую позицию художника, который основными героями своих полотен видит национальных деятелей, внесших неоценимый вклад в развитие культуры Казахстана.
Генетическая память художника, отбирающая при создании образов нового искусства наиболее близкие, понятные ему темы, особенно ярко проявилась в пейзажах. Предпочтение, отданное этому жанру, не случайно: вся жизнь казаха – скотовода и кочевника, была тесно связана с природой.
Пейзажи А. Кастеева зачастую сравнивают с брейгелевскими – оба художника большое внимание уделяют панорамному решению пространства. На наш взгляд, созвучие с работами П. Брейгеля проявляется в первую очередь в умении сопоставить общее с частным. Но если голландский мастер строит свои коллизии на контрасте, на противопоставлении явлений (например, благостность мира и трагедию в полотне “Падение Икара”), то для А. Кастеева общее и частное всегда находятся в состоянии нерушимой гармонии. Такое понимание мира типично для восприятия жителей степи, и именно поэтому мы можем говорить о специфически этнических чертах его картин.
Пейзажи в творчестве А. Кастеева можно разделить на три группы – горный, степной и жанровый. Художник всегда сохраняет широкую панораму охвата, позволяющую добиваться масштабного, эпического звучания полотна (“В горах Казахстана”, 1951; “Горное пастбище экспериментальной базы”, 1951, “Экспериментальная база”, 1951, “Озеро Иссык”, 1953 и др.). Его любовь к горным пейзажам неслучайна – в них сквозит уходящее в глубь веков представление о горе как о мировом столпе, незыблемой вертикали мироздания. В традиционной тюркской мифологии горы были одной из ипостасей мирового древа, древнейшего символа мироздания; горы – символ вечности и устойчивости бытия, символ родины, ее природы.
К лучшим полотнам “горного” цикла относится “Дом отдыха в горах” (1937), где с одинаковой убедительностью переданы заснеженные и поросшие лесами склоны, решена проблема нескольких планов изображения, помогающих достичь убедительности в передаче пространства. Эта работа звучит свежо и необычно в контексте времени. На фоне столь близкой сердцу художника зеленой долины, завершающейся изображением покрытых лесами гор, изображены новые многоэтажные корпуса дома отдыха – явление, исключительно новационное для той эпохи. В этом, казалось бы, бессюжетном полотне, по сути, обычном пейзаже, нашли свое отражение очень важные приметы времени с их декларациями о труде и отдыхе, заботе о человеке, верой в будущее.
Верный приверженец натуры, А. Кастеев никогда не экспериментирует с пространством; он сохраняет низкую, на уровне человеческого роста, точку зрения в сочетании с высокой, на уровне птичьего полета, в результате чего добивается своеобразного эффекта “присутствия в кадре”. Такой способ передачи пространства позволяет выразить как подробности первого плана (кустарники, трава, каменистая почва), так и масштабную панораму дальнего вида, которая расширяется прямо на глазах, словно совмещая в себе микро- и макрокосм. Как отмечает Р. Копбосинова, “А. Кастеев обладал умением точно установить соотношения высоты линии горизонта и масштаба фигур, чтобы определить значимость Человека в пространстве пейзажа, или, наоборот, выделить выразительность “развивающихся” далей” (1, с. 15). Даже если горы не являются основным объектом изображения, они зачастую присутствуют на заднем плане как обязательный элемент.

Ничто, пожалуй, так полно не характеризует творчество А. Кастеева, как степные пейзажи. Они по-своему уникальны, в первую очередь в силу их незамысловатости, даже крайней простоты изобразительных средств. Степь, низкая, или, наоборот, высокая линия горизонта, но чаще – равнозначность неба и земли, нависающее над землей желтоватое хмурое небо, скудная растительность, беспредельность охваченного взглядом пространства – таковы работы “Родина Абая Чингизтау” (1947), “Колхозные дома” (1947), “Районный центр Айнал” (1948), “Колхоз Сары-Шоки” (1948), “Летнее пастбище Чалкуде” (1956), “Озеро Сарыколь” (1956), “И здесь вырастим хлеб” (1956). Может быть, они покажутся на первый взгляд не столь эстетически выразительными, не живописными, однако именно в этой скупости красок и форм, в этой простоте рисунка и сюжета, строгой, документальной точности А. Кастеев видел правду живописи, от которой он не позволял себе отступать. Не случайным кажется также тот факт, что А. Кастеев обращается к степному пейзажу лишь в послевоенные годы, когда он уже обрел навыки профессионального мастерства. Действительно, надо обладать немалым талантом живописца, чтобы выразить всю силу своего таланта в столь скупых формах и средствах, которые предлагает степной пейзаж Казахстана. Разработанная им “степная” тематика стала определяющим “лицом” живописи Казахстана ХХ в.
Как и в случае с пейзажами горными, появление степных пейзажей с их лаконичным художественным языком вызвано не только стремлением передать личностное восприятие родной природы, быть ближе к натуре, но и глубинными, генетически обусловленными, подсознательными импульсами. Дело в том, что изображение Неба и Земли, важнейших понятий в жизни кочевника, лежит в основе казахского орнаментального искусства. Орнаменты казахских войлочных ковров на протяжении веков, вплоть до наших дней, имели традиционный негативно-позитивный способ формообразования, при котором фон был равен узору, и, соответственно, узор – фону. Этот прием возник как стремление выразить мировоззренческие представления степняков, для которых мир состоял из двух равновеликих понятий – Земли и Неба. Этим понятиям поклонялись, их обожествляли – Небо было олицетворением главного божества – Тенгри, а Земля почиталась как богиня-мать Умай. Именно эти понятия и нашли отражение в узорах войлочных ковров, которые наделялись благопожелательным, оберегающим значением. Эти понятия – равнозначность Земли и Неба – на генетическом уровне нашли своеобразное отражение и в пейзажной живописи А. Кастеева, что дает основание утверждать о преемственности вековых традиций в его творчестве.

Большое значение придавал Кастеев жанровым пейзажам, ставшим одной из отличительных особенностей казахской живописи в целом. На первый взгляд, полотна этого круга по их содержанию можно отнести к бытовому жанру, однако специфика образа жизни казахов, проходящая в основном на природе, на открытом воздухе, предопределила сочетание жанровых сцен и пейзажа, и, соответственно, появление жанрового пейзажа. А. Кастеев первым предлагает такое сочетание, которое станет излюбленным приемом для его последователей.
Следует отметить, что процесс слияния жанров был присущ не только казахской живописи, но и в целом живописи среднеазиатского региона, однако и здесь наблюдаются свои особенности.
Работы конца 30-х гг., такие, как “Колхозный той”, “Колхозная молочная ферма”, “Доение кобылиц”, отличаются точным знанием народного быта; вместе с тем они полны проникновенного лиризма в сочетании с эпической мощью передачи гармоничного слияния природы и человека, ощущающего себя ее частью. Из простой бытовой зарисовки они превращаются в поэтическую оду бытия, полную символических истолкований; “в сюжетной структуре этих картин видится фольклорное начало, органически присущее художнику” (2, с. 56).
Послевоенные работы – “Ковровщицы на джайлау” (1950), “Красная юрта” (1957), “Последние известия” (1963), “Автолавка на пастбище” (1963) также строятся на равноценном сочетании сюжетного и пейзажного начал. В них нет надуманности или фантазии художника, есть только искреннее желание показать жизнь степи такой, как она есть. Этот подход вполне закономерен на первых этапах становления нового вида искусства – запечатлеть действительность в ее непосредственном бытии. Вместе с тем художник отбирает сюжеты, которые дают ему возможность передать трепетное отношение к тем изменениям, которые происходили в степи. Его жанровые полотна стали “совокупным портретом нации, в котором выражены идеализм традиционного сознания казахов, приоритеты коллективных, родовых установок, восприятие человеческого рода как живого продолжения природы” (1, с. 17).

Изображение быта на фоне природы столь же естественно для казахского художника, как сама жизнь. Появление такого рода жанра неслучайно – в нем нашли свое выражение мировоззренческие представления народа, отражающие идею гармоничного сосуществования человека и природы, идею патриархального быта, устойчивости и незыблемости родоплеменных отношений. Полотна этого круга можно рассматривать и как важный этнографический материал, поскольку для художника всегда было важно сохранить достоверность фактов и близость к натуре.
Этапной работой в творчестве А. Кастеева является портрет Ч. Валиханова (1951), к образу которого он обращался не раз (известен также портрет 1952 г., носящий более камерный характер). Здесь напрашиваются аналогии с работой “Юрта” (1934), позволяющие выявить как динамику развития стиля, так и сложившиеся отличительные черты живописи А. Кастеева.
Прекрасные, полные глубокого психологического “ясновидения” портреты таких сынов казахского народа, как Амангельды и Алиби Джангильдин, Джамбул и Кенесары Касымов, покоряют прежде всего мужественной сдержанностью, силой реалистического письма.
В картинах послевоенных лет нашла свое отражение целая эпоха, проникнутая настроением победы, верой в светлое завтра, неиссякаемым оптимизмом, вполне оправданной пафосностью. А. Кастеев мастерски владеет искусством детали, привлекая на первый взгляд незначительные элементы для полноты раскрытия темы, связанной с новыми реалиями жизни, причем в каждом случае это делается очень деликатно, без социально ангажированного акцента.
Интересно совмещение традиционных и новых примет быта в полотне “Последние известия” (1963). Обычная казахская семья расположилась на обед на расстеленных войлочных коврах близ юрты, пожилая женщина в правой части картины разливает кумыс – перед нами сцена, которая могла бы происходить и в прошлом, и в позапрошлом веке. И здесь важное значение приобретают детали, относящиеся к современности, новому быту: это журналы и газеты, как бы невзначай разбросанные на переднем плане картины, радио с антенной, неслучайна, наверное, и размещенная прямо по центру композиции современная одежда мужчин – сапоги, кепки, пиджаки, и, наконец, еще одна деталь – светловолосый мужчина в левой части композиции, – гость, прибывший на джайлау. С помощью этих ненавязчивых деталей А. Кастеев смог дать емкую и точную характеристику целой эпохи, когда приметы нового времени все активнее проникают в быт скотовода.

В этом плане значительный интерес представляет также работа “Долина Таласа” (1970). Это полотно горизонтально вытянутого формата, что позволяет наиболее выразительно преподнести основную тему – безбрежность степных просторов. Во всех работах художника прослеживается его удивительная способность выстроить сюжет, совмещающий в себе понятия, наиболее ценные для носителя традиционной культуры, и новые приметы времени, с которыми связывалось будущее народа.
Роль А. Кастеева в становлении национального искусства Казахстана уникальна. Благодаря таланту, глубинной связи с родной культурой он интуитивно сумел “соединить социальные, культурные, эстетические координаты разных исторических эпох” (2, с. 79). Ценность его работ заключается также в искренности и чистоте чувств, которые он смог сохранить на протяжении всей своей творческой жизни. “Абылхан Кастеев пленяет нас тем, – отмечает Г. Сарыкулова, – что он одержим и чист, как горный родник, его наивность прекрасна своей первозданностью, полной откровенностью” (3, с. 20).
С радостным чувством первооткрывателя Кастеев стремился запечатлеть мир во всех его проявлениях. В этом – неоценимая заслуга великого мастера Абылхана Кастеева.
Литература:
- Художник и эпоха. А.Кастеев и изобразительное искусство Центральной Азии XIX – XX вв. // Сборник докладов. Алматы, 2004.
- Ахмедова Н.Р. Традиции, самобытность, диалог. Ташкент, 2004.
- Абылхан Кастеев. Альбом/ Составитель Б. Барманкулова. Алма-Ата, 1986.
Айдар Ниязов