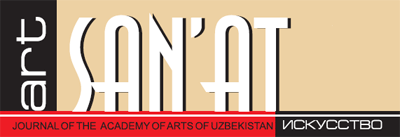Арабская поговорка гласит: “Пустыня – это сад Аллаха, из которого властитель правоверных удалил всю лишнюю людскую и животную жизнь, чтобы на земле было хоть одно место, где он мог бы бродить в одиночестве”.
“Все уясняется в сравнении с противоположным”. Руми.
Пустыня и сад – два образа, два “полюса” того Востока, где жили и кочевали последователи Моисея, Христа, Магомеда. Он включает пространства Малой Азии, Аравийского полуострова, Африки и связанные исторической судьбой с Россией территории Средней Азии. Пустыня и сад – словно две крайние точки, между которыми заключено многообразие жизни на Востоке. Они не только определяют образ жизни тех или иных народов, но, как и многие другие явления действительности, приобретают смысл и значение, выходящие за пределы географических или бытовых понятий, выражают философские, религиозные, эстетические идеи, становятся метафорами, аллегориями, символами.
Мы встречаемся с этими образами в мифах, легендах, философских трактатах, в поэзии, и, конечно, в прикладном и изобразительном искусстве. Стены дворцов, книжные миниатюры Востока и Европы, иконы, произведения прикладного искусства: вышивки, ковры, ювелирные украшения, не говоря уже об иллюстрациях к практическим наставлениям по садово-парковому искусству, – сохранили изображения и символические обозначения садов.
В своем первом и главном значении образ сада воплощает образ созданного богом рая, ограниченного и отделенного от окружающего, недружелюбного человеку пространства (1). Сад изобилует всем, что необходимо человеку, – растениями, наполняющими его красками и благоуханием, птицами, радующими слух, плодами, доставляющими удовольствие, мягкой травой и прохладой… Иными словами, сад, созданный человеком из материала природы и как бы “улучшающий” ее в соответствии с практическими и эстетическими потребностями его, услаждал все пять чувств человека, становился буквальным воплощением понятия “культура” в его первом значении (“culturа” – “возделывание”).
Для художника это благодатный материал, изначально живописный, позволяющий отдаться эмпирическому восприятию мира, раскрыть в возможной полноте его чувственную, видимую красоту. Отдельные исключения лишь подтверждают правило.
Иное дело, пустыня – мир испытаний, лишений, аскезы. Хотя именно в пустыне происходили многие важные и драматические события мифов, священной и реальной истории. Наиболее яркие образы пустыни в прошлом созданы в сфере литературы, а не изобразительного искусства (2). И дело здесь не только в том, что пустыня на первый взгляд аскетична, не живописна, если не сказать безжизненна. Она раскрывает свою красоту постепенно, и осознание этой красоты требует определенного усилия.
Пустыня нерукотворна и обладает нечеловеческим, грандиозным масштабом. Она выводит за пределы обыденного в сферу духовности и интеллекта, в область не столько видимого и очевидного, сколько мистически таинственного, доступного только внутреннему взору. Показательно, что именно в пустыне зародился ислам – монотеистическая религия, сдержанно относящаяся к изобразительному, чувственно-конкретному воплощению мира. А еще раньше идеей неизобразимости бога прониклись иудеи, связывающие с пустыней получение Завета.
Пустыня противоречива и коварна, полна обманчивых миражей. Бог впервые явился Моисею именно в пустыне, в виде столба пыли, но столбы пыли – это и злобные дэвы. Бесплодность пустыни – христианская аллегория состояния души, покинутой Богом. Но причудливые формы изображения видевших в пустыне место единения с Богом порицались представителями официальных религий. Примерно такими значениями в разные культуры и эпохи наделялись образы пустыни и сада. Фиксируя существенные различия, они порой парадоксальным образом меняли местами знаки “полюсов”.
XX век, сильно изменивший и лик земли, и духовную культуру многих народов, расширил границы миропонимания и осознания человеком самого себя. Он во многом сместил традиционные представления, наделил их новыми значениями, но не изгладил и старые. В культуре нашей большой страны, шедшей своим “особым” путем, жизнь традиций складывалась особенно драматично. Насильственно искореняемые, они зачастую существовали подспудно, сложным образом взаимодейстуя с общими проблемами европейской культуры. Коллекция Государственного музея Востока позволяет проследить, как на протяжении почти семи десятилетий художники разных поколений, школ, культурных традиций (собственно “восточной”, изменяющейся вследствие контактов с искусством России, и русской, соприкасавшейся с Востоком) понимали и воплощали образы пустыни и сада, как эти образы, то становясь ключевыми, то уходя как бы на периферию творческих интересов, отражали грани их миропонимания. В перспективе времени очевидно, что эти образы рождались в силу внутренней потребности художников, может быть, полностью не осознаваемой ими самими, но обусловленной логикой творческой судьбы и судьбой страны, и они составляют если не суть, то “опорные точки” творческого процесса.
Эти темы проходят сквозь творчество уроженца Средней Азии Александра Николаевича Волкова, уникальной по масштабу личности: художника, поэта и теоретика искусства. В своем творчестве, особенно в первые десятилетия, он синтезировал новации европейского искусства и традиции национального. Подхватывая и под особым, только ему свойственным, углом продолжая развивать идею универсализма, близкую многим русским живописцам рубежа веков, он стремился к воплощению некоторых сущностных сторон Востока, его культуры, традиционного быта, интуитивно угадывая и выявляя глубинные смыслы, заложенные в них издавна. Пустыня для него неразрывно связана с другим образом Востока – караваном, который, пересекая ее необозримые просторы, являлся “носителем” идеи пространства и времени и одновременно альтернативой безмолвию пустыни. Одним из наиболее значительных его полотен является “Караван” III (1921-1922) из собрания музея, имеющее и второе название: “Пустыня перед бураном”. Условный язык геометризированных плоскостей и объемов – знаков реальных форм – снимает элемент жанровости и заставляет воспринимать композицию как образ философско-символический. Пространство пустыни, фигуры людей и животных слились в пронизанную мощными ритмами живописно-пластическую субстанцию, в которой угадываются конкретные приметы, но главным становится ощущение той грандиозной реальности, которую, уподобясь демиургу, создал художник-философ. Присутствие пустыни ощутимо или подразумевается во многих произведениях этой поры, так же, как всегда ощутимо оно в реальной жизни на Востоке. Порой даже кажется, что пустыня “просачивается” в полотна художника – он использует песок для создания необходимой фактуры живописной поверхности.
Подобно многим авангардистам, А.Волков искренне увлекся идеей социального переустройства мира. Широко распространенной ее аллегорией было превращение пустыни в цветущий райский сад. В Средней Азии развернулось строительство оросительных каналов, способных, как казалось, реализовать вековые чаяния земледельцев. Но в картине “Штурм бездорожья” (1932), запечатлевшей строительство Чирчикского канала, а точнее, дороги к нему, нет той силы обобщения и мощной энергии, которая была свойственна ранним работам мастера, и реальный пейзаж с зелеными, кое-где разбросанными деревьями и пестрыми группами людей воспринимается скорее жанрово, чем символически.
Вряд ли ученик и последователь А.Волкова П.Щеголев, стремясь в своей картине “Добыча песка” (1933) воплотить идею созидательного труда, думал, что полвека спустя она будет восприниматься как изображение какого-то магического действа, цель которого не известна. С непонятным фанатизмом люди громоздят кучи песка, поднятого с речной отмели, заполняя ими пространство и словно заменяя нерукотворные барханы пустыни. Кажется, что главный смысл изображенного действия – “приручить” пустыню, пропустить ее через свои руки и тем самым “подчинить” человеческой воле и лишить многозначной символики.
Теперь, десятилетия спустя, очевидно, что идея десакрализации пустыни, борьбы с нею в реально-практическом и в “мистическом” плане осознанно или подсознательно сказывались в сюжете и смысле произведений многих художников. И здесь необходимо вспомнить, как советская идеология искореняла все ненормативное, многозначное, стремясь к единообразию. Загадочная, безграничная пустыня, выводящая человека за пределы социума, наталкивающая на размышления о сущности бытия (ведь не случайно именно в пустыню – отсюда пустынь – удалялись искавшие истину), никак не вписывалась в образ будущего, которое должно было непрерывно и безупречно “цвесть” как сад, благодаря непрестанному и согласованному труду людей – “винтиков”.
Пережив разочарование социалистической утопией, А.Волков обрел новое дыхание, когда обратился к реальной природе и стал писать небольшие “отрадные”, почти пленэрные этюды. Это не символическое истолкование мироздания, а конкретный кусочек благодатной земли, дарующий тень, прохладу, покой. Тонко подмечая смену освещения, погоды, красок, постигая тихую гармонию, художник находит новый смысл жизни и творчества, позволяющий ему сохранить себя в потоке тогдашнего официоза.
 Появление образа сада в творчестве туркмена Бяшима Нурали, художника, глубоко укорененного в народную традицию, хотя и увлеченного возможностями “чужого” изобразительного искусства, не случайно. Нурали был человеком высокообразованным, писал стихи по-арабски, вел жизнь вполне соответствующую суфистским правилам (3). Некоторые его полотна, в частности “Сбор винограда” (1929), находят непосредственные аналогии в восточной поэзии. Это удачная и самобытная попытка новыми художественными средствами воплотить традиционные идеи культуры ислама, поскольку образ светлого будущего здесь совпал с тенденцией исламского искусства отражать в идеалах безупречность мироздания.
Появление образа сада в творчестве туркмена Бяшима Нурали, художника, глубоко укорененного в народную традицию, хотя и увлеченного возможностями “чужого” изобразительного искусства, не случайно. Нурали был человеком высокообразованным, писал стихи по-арабски, вел жизнь вполне соответствующую суфистским правилам (3). Некоторые его полотна, в частности “Сбор винограда” (1929), находят непосредственные аналогии в восточной поэзии. Это удачная и самобытная попытка новыми художественными средствами воплотить традиционные идеи культуры ислама, поскольку образ светлого будущего здесь совпал с тенденцией исламского искусства отражать в идеалах безупречность мироздания.
Цветущие и плодоносящие сады, другие образы советского мифа появляются в искусстве тем чаще и звучат тем патетичнее, чем труднее и беднее становится действительность. Парадокс реальности – “парки культуры” – метаморфозы старинных приусадебных парков. Пустыня как самостоятельная и самодостаточная часть мироздания надолго уходит из изобразительного искусства, уступая место пустыне покоряемой или покоренной, а идея ее вредоносности для нового общества и прогресса человечества составной частью входит в комплекс тоталитарных установок, регулирующих и ограничивающих развитие культуры.
Десятилетия спустя, в 1970-е, уже новому поколению художников, которых в меньшей степени коснулось мертвящее дыхание тоталитаризма, но и короткая “оттепель” только задела, пришлось “открывать” в искусстве “забытые” темы, расширять пластические возможности и духовную сферу изобразительного искусства, порой интуитивно восстанавливая связи с предшествующими поколениями, с культурным наследием в целом. До полного высвобождения творческой личности еще далеко, и пути к нему различны, но, несомненно, один из них лежал через отказ от помпезности прежних десятилетий и обращение к темам запретным, к творческим установкам “старых мастеров” первой трети XX в., оппозиционных тоталитаризму.
В картине туркмена Мамеда Мамедова “Кара-Кумы” (1971) нет ничего кроме непосредственного изображения пустыни – бесконечной череды пологих барханов, написанных почти монохромно. Мрачная гамма черного, серого, охры, непосредственно выражает название пустыни, означающее в переводе “Черные пески”. Пожалуй, впервые за многие десятилетия художник выходит один на один с первозданной, не тронутой человеком, природой. Образ безжизненного пространства, враждебного человеку, сродни представлениям прошлых лет, но налицо признание его значительности, необходимости для человеческого бытия.
 Александр Бобкин, побывавший в Туркмении, в Мерве, в конце 1980-х, нарочито профанирует образ пустыни и смотрит на нее глазами жителей аула, для которых огромное, таинственное пространство – это лишь задворки, куда сбрасывается ненужный хлам. Утрату исторических корней у людей, существующих на развалинах великой истории, художник воспринимает как данность, как неизбежный результат движения жизни. Пластический гротеск, ирония и самоирония ограждают его от пафоса в решении темы “Siс trаnsit glоriа mundi” (Так проходит мирская слава).
Александр Бобкин, побывавший в Туркмении, в Мерве, в конце 1980-х, нарочито профанирует образ пустыни и смотрит на нее глазами жителей аула, для которых огромное, таинственное пространство – это лишь задворки, куда сбрасывается ненужный хлам. Утрату исторических корней у людей, существующих на развалинах великой истории, художник воспринимает как данность, как неизбежный результат движения жизни. Пластический гротеск, ирония и самоирония ограждают его от пафоса в решении темы “Siс trаnsit glоriа mundi” (Так проходит мирская слава).
Художник из Сибири Владимир Наседкин впервые побывал в Туркмении (в Мерве) в те же годы. Грандиозность и строгость пустыни сказались на выработке его индивидуального стиля, предполагающего минимализм выразительных средств. Близость древнего Мерва придала восприятию художника историческую перспективу и философскую направленность. Серия работ сангиной, названных “Пустыня. Виноградник” – не столько воплощение видимого облика пустыни, сколько сжато выраженный ее многозначный образ. Поверхность бумаги, многократно покрытая сангиной, углем, мелом, а потом проработанная острым инструментом, отождествляется художником с поверхностью самой пустыни.
В серии работ московского графика Тарифа Басырова “Обитаемые пейзажи” пустыня оборачивается пустырем, не только реальным, но и прочитываемым как метафора “духовного пустыря” отечественной культуры, к которому привела многолетняя и упорная борьба тоталитарной идеологии с пустыней – пустынью. Эти реальные и духовные пустыри – единственная и адекватная среда обитания его героев – “советикусов”, лишенных индивидуальности, клишированно действующих, думающих, чувствующих. И заводские трубы с темными клубами дыма замещают в его пейзажах деревья, а клумба, заполненная яркими цветами, по сути – безжизненна. Смысл и пластические решения многих работ Т.Басырова строятся вокруг многообразной символики пустыни, которая становится для художника своего рода “собеседником”, в диалоге с которым проясняется мировоззренческая позиция.
Черты автобиографичности присутствуют в пейзажах Мамута Чурлу, много лет проработавшего в Узбекистане, а теперь вернувшегося в Крым, на историческую родину. Он сохраняет реальные приметы Востока – кишлаки, тутовые деревья, обводные каналы, зацветающий урюк… Восток, который чаще всего видится солнечным, цветным, в картинах художника странен в своем оцепенении, пустынен, лишен живительных соков и потому уязвим и беззащитен. Природа становится аллегорией состояния человека, насильственно лишенного родины.
Воображаемые путешествия на Восток легли в основу ряда живописных и графических работ Татьяны Баданиной. Ей близки такие качества культуры ислама, как поэтический утонченный интеллектуализм и метафоричность. Ее образы Востока скорее абстрактны, нежели чувственно реальны. Среднеазиатские росписи по ганчу стали отдаленным прототипом ее фантастических цветов, существующих как бы на грани живой и неживой материи. Серия работ “Сад ислама” (1988) не следует общепринятым представлениям о “восточном саде, благоухающем и полном роз” и не превращается в стилизацию “восточных образцов”. Это концептуальное воплощение идеи садов, которые, по мысли их средневековых создателей, своей геометрической четкостью являли образ совершенного мироздания. В интерпретации художницы они аскетичны, чем и вызывают ассоциации… с пустыней.
 Для молодого поколения живописцев идея сада если и не переходит в противоположность, то насыщается новым смыслом. Сад таджикского живописца Александра Акилова порой уподобляется бесплодному миражу, населенному фигурами-призраками. По своей пространственной структуре он – и “огороженное отовсюду место” (в соответствии с буквальным переводом слова – “парадиз”), и лабиринт одновременно (“Белый день”, 1981). В работах середины 1980-х, многоцветных и материальных, зрителя не покидает ощущение тревоги, апокалиптические предчувствия, не свойственные “классическому” пониманию образа сада. И словно отвечая на вопрос о возможности создания рая на земле, Акилов пишет композицию, в которой сюрреалистически соединяет роскошно зеленеющий сад и расстилающуюся у его корней песчаную равнину. Невольно вспоминается восточная легенда, повествующая о могущественном и амбициозном правителе, по велению которого было создано подобие райского сада на земле. Но Аллах засыпал его песком, превратив тем самым в пустыню.
Для молодого поколения живописцев идея сада если и не переходит в противоположность, то насыщается новым смыслом. Сад таджикского живописца Александра Акилова порой уподобляется бесплодному миражу, населенному фигурами-призраками. По своей пространственной структуре он – и “огороженное отовсюду место” (в соответствии с буквальным переводом слова – “парадиз”), и лабиринт одновременно (“Белый день”, 1981). В работах середины 1980-х, многоцветных и материальных, зрителя не покидает ощущение тревоги, апокалиптические предчувствия, не свойственные “классическому” пониманию образа сада. И словно отвечая на вопрос о возможности создания рая на земле, Акилов пишет композицию, в которой сюрреалистически соединяет роскошно зеленеющий сад и расстилающуюся у его корней песчаную равнину. Невольно вспоминается восточная легенда, повествующая о могущественном и амбициозном правителе, по велению которого было создано подобие райского сада на земле. Но Аллах засыпал его песком, превратив тем самым в пустыню.
Таким образом, мы видим, что в наше драматичное и конфликтное время, сад, как воплощение рая, равно как и многие другие положительные образы, встречается нечасто. Слишком обесценились идеалы, слишком велик риск впасть в слащавость и фальшь, слишком трудно представить и воплотить гармоничное начало. И современным художникам-интеллектуалам значительно ближе по мироощущению оказывается драматизм пустыни. Мысленно или реально они повторяют путь отшельников в надежде отыскать духовные начала, способные одухотворить не только их собственное творчество, но и общество в целом.
Образ сада в искусстве художников 1980-90-х если и не переходит в свою противоположность, то часто осложнен дополнительным смыслом и окрашен иронией или ностальгией. Так, для Георгия Тотибадзе сад предстает в образе городского парка – кусочка живой природы, огороженного со всех сторон многоэтажными домами. Художник исключает его из настоящего времени, придавая ему характер детского видения (“когда цветы были большими”) или воспоминания старика о годах своей молодости. И только точность цветовых отношений пробуждает в зрителе его визуальный опыт и “привязывает” образ к современности.
Но одновременно с молодежью в 1980-90-е годы работают и мастера старшего поколения, за плечами которых богатый жизненный опыт, а порой и непосредственно унаследованная традиция. Братья Александр и Валерий Волковы, немалая часть жизни которых прошла в Узбекистане, развивают художественные принципы своего отца. Азия для них – не экзотика, а хорошо знакомый с детства мир, обладающий своими приметами, спецификой, воспринимаемый цельно, в совокупности явлений и сущностей. И сады, и пустыни для них – неотъемлемая часть мира Востока. Воспринятая от отца привычка “воспитывать глаз натурой” позволяет художникам в декоративных, часто полуабстрактных композициях, не прибегая к жизнеподобию, через цвет, его соотношения, динамику мазков пробудить в зрителе собственные воспоминания о свежести водного потока, прохладе листвы или горячем дыхании пустыни – все те ощущения, ароматы, звуки, краски, из которых складывается реальный и вместе с тем классический в своей полноте и гармонии образ Востока.
Для Евгения Кравченко, последователя А.Н.Волкова, пустыня – едва ли не основная тема творчества. Он родился в Туркмении, знает, любит и понимает пустыню в ее многообразных проявлениях и состояниях: утром, на закате, перед самумом, весной… Как никто другой он чувствует и умеет передать ее гармонизирующее воздействие, открывает поистине неисчерпаемое цветовое богатство пустыни. Реальная ее красота оказывается для художника важнее символики и мистики, и, кажется, именно в пустыне художник обрел свой сад.
Автор: Светлана Хромченко