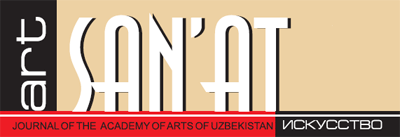Начиная с 1990-х гг. ХХ в. кардинально стала меняться лексика национального искусства. Вопрос терминологической дефиниции актуализировался в отечественном искусствоведении, когда привычный набор искусствоведческих критериев и определений, весь инструментальный спектр советской художественной критики распался и уже не в состоянии отразить динамично развивавшиеся в искусстве постсоветских государств разнонаправленные тенденции.
Начиная с 1990-х гг. ХХ в. кардинально стала меняться лексика национального искусства. Вопрос терминологической дефиниции актуализировался в отечественном искусствоведении, когда привычный набор искусствоведческих критериев и определений, весь инструментальный спектр советской художественной критики распался и уже не в состоянии отразить динамично развивавшиеся в искусстве постсоветских государств разнонаправленные тенденции.
В связи с обретением права на самостоятельное культурное взаимодействие с западным миром в художественной практике Узбекистана появились различные формы актуального искусства, породившие необходимость лексического обновления языка отечественной арт-критики. В искусствоведческом лексиконе появляются новые дефиниции – как жанровые (дизайн, инсталляции, видеоарт, перформанс), так и понятийные, смыслообразующие (постмодернизм, идентичность, субкультура, парадигма, антропология, мейнстрим, герменевтика, концепция, идиоматика, гедонизм и др.), которые более точно и полно отражают суть протекающих в современном искусстве процессов. Источники обновления – западная и российская арт-критика и родственные сферы гуманитарных наук – культурология, философия, социология и т. д. Следует отметить, что такая “европеизация” языка неоднозначно оценивалась отечественными оппонентами, порой видевшими в этом профессиональный снобизм и псевдонаучную риторику (1, с. 238). Между тем возникновение нового категориального аппарата в искусстве и арт-критике, в том числе и узбекистанской, – явление естественное и должно рассматриваться в контексте общих глобализационных процессов, которые в культуре так же, как и в экономике и социальной сфере, невозможно остановить.
 Безусловно, что в процессе интерпретации таких категорий необходимо учитывать своеобразие историко-культурного и ситуативного пространства. Причем понимание специфики использования такого аппарата признают и ведущие росссийские культурологи (2). Одним из таких понятий является “утопия”, свого рода терминологический индикатор, позволяющий более развернуто интерпретировать проблематику “художник – общество”. Причем экстраполируя термин “утопия” на процессы в искусстве нашего региона, следует, во-первых, учесть специфику восточной утопии, связанную с особенностями регионального социо-культурного контекста, во-вторых, дифференцировать само понятие утопии, имеющее ряд вариаций – социальной, эстетической и художественной, персональной и т. д. При этом изначально, де-факто, художник, как субъект эстетизации реальности, утопичен, и как ни парадоксально, он утопичен и когда создает антиутопическое по сути произведение, поскольку реальность им всегда приукрашивается благодаря атрибутам творчества и средствам выразительности. Пользуясь такими инструментами самовыражения, как звук, мелодия, текст, краски, кадры, пластика, мимика, художник выступает в противоречивой ипостаси, порой реализуя альтернативу утопии в формах самой утопии.
Безусловно, что в процессе интерпретации таких категорий необходимо учитывать своеобразие историко-культурного и ситуативного пространства. Причем понимание специфики использования такого аппарата признают и ведущие росссийские культурологи (2). Одним из таких понятий является “утопия”, свого рода терминологический индикатор, позволяющий более развернуто интерпретировать проблематику “художник – общество”. Причем экстраполируя термин “утопия” на процессы в искусстве нашего региона, следует, во-первых, учесть специфику восточной утопии, связанную с особенностями регионального социо-культурного контекста, во-вторых, дифференцировать само понятие утопии, имеющее ряд вариаций – социальной, эстетической и художественной, персональной и т. д. При этом изначально, де-факто, художник, как субъект эстетизации реальности, утопичен, и как ни парадоксально, он утопичен и когда создает антиутопическое по сути произведение, поскольку реальность им всегда приукрашивается благодаря атрибутам творчества и средствам выразительности. Пользуясь такими инструментами самовыражения, как звук, мелодия, текст, краски, кадры, пластика, мимика, художник выступает в противоречивой ипостаси, порой реализуя альтернативу утопии в формах самой утопии.
 Учитывая, что сам коммунистический проект являлся глобальной социальной утопией ХХ в.; то проблема утопии в протосоветском (для нашего региона это конец XIX в. – 1920-е гг.) и соцреалистическом искусстве особо не акцентировалась. Когда в 1970 – 1980-е гг. волна российского андерграунда дескрализировала ценности советского искусства и демонизация наследия соцреализма достигла апогея, утопичность и безысходность советского художественного проекта стали воприниматься как аксиома (3). Более акцентированно проблема утопического в искусстве стала рассматриваться в постсоветский период. Открыто социальный контекст утопии искусства соцреализма был обозначен в книге известного российско-германского исследователя Б. Гройса “Искусство утопии” (2003 г.). Причем хронологически утопия стала охватывать и территорию русского авангарда, имея в виду его радикализм и романтический флёр.
Учитывая, что сам коммунистический проект являлся глобальной социальной утопией ХХ в.; то проблема утопии в протосоветском (для нашего региона это конец XIX в. – 1920-е гг.) и соцреалистическом искусстве особо не акцентировалась. Когда в 1970 – 1980-е гг. волна российского андерграунда дескрализировала ценности советского искусства и демонизация наследия соцреализма достигла апогея, утопичность и безысходность советского художественного проекта стали воприниматься как аксиома (3). Более акцентированно проблема утопического в искусстве стала рассматриваться в постсоветский период. Открыто социальный контекст утопии искусства соцреализма был обозначен в книге известного российско-германского исследователя Б. Гройса “Искусство утопии” (2003 г.). Причем хронологически утопия стала охватывать и территорию русского авангарда, имея в виду его радикализм и романтический флёр.
Так, по мысли Б. Гройса, соцреализм и авангард поведенчески близки – в обоих случаях зона утопии строго охраняется и любые вторжения художественного инакомыслия исключаются: “Практика авангарда в XX в. может быть описана как практика распространения табуирования на практику самого искусства” (4). В последующих публикациях и интервью Б. Гройс не раз обращался к теме трансформации социальных утопий в искусстве, подчеркивая при этом важность соотношения политики и искусства как актуального научного дискурса: “То, что по-настоящему интересует меня, – это состояние искусства и политики” (5).
 В начале 2000-х гг. сопоставление типологической общности русского авангарда и искусства соцреализма в части утопичности их мировоззренческих идеалов мы находим в практике международной выставочной деятельности. В 2003 г. в Салониках (Греция) была организована выставка работ наиболее известных художников русского авангарда с симптоматичным названием “Искусство + Утопия”. Как отмечалось в аннотации, выставка была задумана с целью подчеркнуть тот факт, что движущей силой для художников русского авангарда было стремление изменить мир посредством революционных действий в искусстве, в чем кураторы выставки и видели проявление его утопичности. Собственно, эта же идея сакрального и неизбежного воздействия искусства на социальную жизнь, вера в его катарсическое мессианство были доминирующими и в идеологии советского искусства, ставшего основанием для упрека его в утопичности со стороны критиков соцреализма.
В начале 2000-х гг. сопоставление типологической общности русского авангарда и искусства соцреализма в части утопичности их мировоззренческих идеалов мы находим в практике международной выставочной деятельности. В 2003 г. в Салониках (Греция) была организована выставка работ наиболее известных художников русского авангарда с симптоматичным названием “Искусство + Утопия”. Как отмечалось в аннотации, выставка была задумана с целью подчеркнуть тот факт, что движущей силой для художников русского авангарда было стремление изменить мир посредством революционных действий в искусстве, в чем кураторы выставки и видели проявление его утопичности. Собственно, эта же идея сакрального и неизбежного воздействия искусства на социальную жизнь, вера в его катарсическое мессианство были доминирующими и в идеологии советского искусства, ставшего основанием для упрека его в утопичности со стороны критиков соцреализма.
В современной практике и теории искусства социальная утопия рассматривается как атрибут не только искусства соцреализма и его предшественника русского авангарда, но и в контексте современной постмодернистской парадигмы (6). Причем, как показывает опыт культурных трансформаций ХХ в., наблюдается некая закономерная цикличность в превращении утопии в свою противоположность – антиутопию (7).
 Дихотомическая схема утопия – антиутопия имела место в искусстве туркестанских и узбекистанских художников середины XIX – начала XX в., хотя для искусства ХХ в. нашего региона более характерна смена одной формы утопии другой (8). Социальные утопии в искусстве российских художников Туркестана отражали взгляды царской политической и военной элиты, а также научно-творческой интеллигенции на перспективы переустройства Туркестанского культурного ландшафта, патерналистски оценивавших этот проект как прогрессивную модернизацю общественной жизни края. Вспомним хотя бы известную картину Н. Каразина “Строительство иррригационных систем в Мирзачуле” (начало ХХ в.) (9, с. 42, илл.), в которой вышеупомянутая концепция модернизации раскрывается со всей живописно-пластической очевидностью. Картина Н. Каразина идеологически предвосхищает революционный пафос социалистического переустройства, которым заразились художники Узбекистана после 1930-х гг. и в этом смысле является предтечей социальных утопий в искусстве советского периода.
Дихотомическая схема утопия – антиутопия имела место в искусстве туркестанских и узбекистанских художников середины XIX – начала XX в., хотя для искусства ХХ в. нашего региона более характерна смена одной формы утопии другой (8). Социальные утопии в искусстве российских художников Туркестана отражали взгляды царской политической и военной элиты, а также научно-творческой интеллигенции на перспективы переустройства Туркестанского культурного ландшафта, патерналистски оценивавших этот проект как прогрессивную модернизацю общественной жизни края. Вспомним хотя бы известную картину Н. Каразина “Строительство иррригационных систем в Мирзачуле” (начало ХХ в.) (9, с. 42, илл.), в которой вышеупомянутая концепция модернизации раскрывается со всей живописно-пластической очевидностью. Картина Н. Каразина идеологически предвосхищает революционный пафос социалистического переустройства, которым заразились художники Узбекистана после 1930-х гг. и в этом смысле является предтечей социальных утопий в искусстве советского периода.
 Предвестниками социальных утопий в известной мере можно назвать и художников Л. Бурэ, Р. Зоммера, С. Дудина, которые придерживались линии этнографического реализма, менее социально маркированного, но близкого к мифологизирующему реальность сознанию. Эта традиция была продолжена в 1920 – 1930-х гг. импрессионистической линией П. Бенькова и его последователей З. Ковалевской, Н. Кашиной. Таким образом, генезис утопии в национальном искусстве ХХ в. имеет генетические корни в российской художественной традиции конца XIХ – начала XX в. На эту же задачу показа созидательной деятельности царского режима в крае и “…преимущества российского завоевания Туркестана, подчеркивание позитивного значения проникновения сюда европейской цивилизации…” была нацелена документальная киноэпопея о Туркестанском крае известного российского кинодеятеля А. Ханжонкова (10, с. 106).
Предвестниками социальных утопий в известной мере можно назвать и художников Л. Бурэ, Р. Зоммера, С. Дудина, которые придерживались линии этнографического реализма, менее социально маркированного, но близкого к мифологизирующему реальность сознанию. Эта традиция была продолжена в 1920 – 1930-х гг. импрессионистической линией П. Бенькова и его последователей З. Ковалевской, Н. Кашиной. Таким образом, генезис утопии в национальном искусстве ХХ в. имеет генетические корни в российской художественной традиции конца XIХ – начала XX в. На эту же задачу показа созидательной деятельности царского режима в крае и “…преимущества российского завоевания Туркестана, подчеркивание позитивного значения проникновения сюда европейской цивилизации…” была нацелена документальная киноэпопея о Туркестанском крае известного российского кинодеятеля А. Ханжонкова (10, с. 106).
 Во второй половине XIX в. существовала и другая точка зрения художников на явления социальной жизни Туркестана, разрушающая изнутри идеализирующие схемы ее модернизации. Так, в конце XIX в. наиболее значимыми полотнами, передающими реальность Туркестана в ее жестком критическом освещении были картины В. Верещагина – своего рода визуальная социально-художественная антиутопия. Особой заостренностью социальных оценок отличаются его работы “Пленные” (1870 г.), “Двери Тимура” (1871 г.), “Опиумоеды” и др. Однако со временем академическая живопись нигилистического характера теряет свою актуальность. Нигилизм его социальной концепции остался не доступным большинству других российских художников, работавших в это же время в Туркестане и создававших большей частью этнографические зарисовки.
Во второй половине XIX в. существовала и другая точка зрения художников на явления социальной жизни Туркестана, разрушающая изнутри идеализирующие схемы ее модернизации. Так, в конце XIX в. наиболее значимыми полотнами, передающими реальность Туркестана в ее жестком критическом освещении были картины В. Верещагина – своего рода визуальная социально-художественная антиутопия. Особой заостренностью социальных оценок отличаются его работы “Пленные” (1870 г.), “Двери Тимура” (1871 г.), “Опиумоеды” и др. Однако со временем академическая живопись нигилистического характера теряет свою актуальность. Нигилизм его социальной концепции остался не доступным большинству других российских художников, работавших в это же время в Туркестане и создававших большей частью этнографические зарисовки.
Тенденция социальной характеристики реальности, обозначенная В. Верещагиным, в искусстве начала ХХ в. уступает место гедонистической эстетике и идиллическим картинам. Это было отчасти связано с тем, что традиция экзотизации стала одним из симптомов такого восприятия восточного мира (Гоген, Матисс, Климт и др.), чему во многом содействовали авангардные тенденции европейского искусства – кубизм, футуризм и т.д., которые получали в Туркестане распространение благодаря творчеству ряда художников. Образы людей Туркестана составляют достаточно широкий спектр и хорошо представлены фотографиями в известном “Туркестанском альбоме”, изданном в 1987 г. – это водонос, продавцы, ремесленники, музыканты, чайханщики, представители местной аристократии, маскарабозы – местные скоморохи и т.д.
 Сравнивая эти фотоснимки с живописными работами художников, можно заметить достаточно выразительный уровень эстетизации и некой идеализации этих образов и антуража. Это характерно для работ А. Исупова (“Восточное кафе”, 1914 г.), О. Татевосьяна (“Изгнание джина”, 1919 г., “Каллиграф сакральных надписей”, 1920 г., “Сбор тута”, 1921 г.), Н. Григорьева (“Печальная песня”, 1919 г.), А. Николаева (“Жених”, 1920-е гг., “Музыкант-бача”, “Весна”, “Водонос. Ляби хауз. Бухара” – все 1924 г., “Учитель”, 1926 г.), А. Волкова (серия танцующих и музицирующих персонажей начала 1920-х гг., апофеозом которых является картина “Гранатовая чайхана” 1924 г., серия работ на тему караванов и др.). Каждый из упомянутых художников интерпретирует персонажи в своем индивидуальном пластическом стиле, но общая тенденция чрезмерной поэтизации, бытовой повседневности характерна для всех этих картин. Это в известном смысле – утопическая, идеализирующая местный ландшафт эстетическая концепция периода становления живописи Узбекистана.
Сравнивая эти фотоснимки с живописными работами художников, можно заметить достаточно выразительный уровень эстетизации и некой идеализации этих образов и антуража. Это характерно для работ А. Исупова (“Восточное кафе”, 1914 г.), О. Татевосьяна (“Изгнание джина”, 1919 г., “Каллиграф сакральных надписей”, 1920 г., “Сбор тута”, 1921 г.), Н. Григорьева (“Печальная песня”, 1919 г.), А. Николаева (“Жених”, 1920-е гг., “Музыкант-бача”, “Весна”, “Водонос. Ляби хауз. Бухара” – все 1924 г., “Учитель”, 1926 г.), А. Волкова (серия танцующих и музицирующих персонажей начала 1920-х гг., апофеозом которых является картина “Гранатовая чайхана” 1924 г., серия работ на тему караванов и др.). Каждый из упомянутых художников интерпретирует персонажи в своем индивидуальном пластическом стиле, но общая тенденция чрезмерной поэтизации, бытовой повседневности характерна для всех этих картин. Это в известном смысле – утопическая, идеализирующая местный ландшафт эстетическая концепция периода становления живописи Узбекистана.
 Однако гедонистическая утопия 1920-х гг. вскоре уступает место новой разновидности социальной утопии в искусстве – соцреализму. Схема трансформации одной утопии в другую демонстрирует творчество уникального живописца А. Волкова. Его работы начала 1920-х гг. выполнены в кубистической манере – живопись сознательно идеализирует реальность, используя выразительность чувственной эстетики Востока. Ритм ярких цветовых пятен, линий, силуэтов создает ощущение медитативности и мистического, внесоциального пространства. Как писал А. Волков в одной из статей “…нужно…углубить все технические возможности, чтобы передать исключительную яркость, мощную цветистость, особую выразительность и особый уклад жизни Средней Азии” (11). Весь пафос его статьи был направлен на утверждение утопических идей автономии живописного пространства: “Нельзя забывать о самом главном – о самой живописи, которая ставит определенные художественно-технические задачи (11). Но, учитывая время, в которое писалась статья, – а это 1928 г. (начавшийся процесс идеологизации искусства, превращения его в инструмент социального переустройства жизни), эта позиция вынужденно дополняется поправками: “Этим я не (по контексту здесь должна быть приставка не, но в рукописи она пропущена. – А.Х.) хочу сказать, что содержание не нужно. Я только подчеркиваю, что хорошо задуманная по содержанию картина требует и хорошей обработки” (11). Лишь в заключительной части своей статьи художник, следуя требованию времени, подчеркивает связь социальных процессов с творческими исканиями: “Техника и индустриализация в жизни и техника в искусстве крепко связаны” (11).
Однако гедонистическая утопия 1920-х гг. вскоре уступает место новой разновидности социальной утопии в искусстве – соцреализму. Схема трансформации одной утопии в другую демонстрирует творчество уникального живописца А. Волкова. Его работы начала 1920-х гг. выполнены в кубистической манере – живопись сознательно идеализирует реальность, используя выразительность чувственной эстетики Востока. Ритм ярких цветовых пятен, линий, силуэтов создает ощущение медитативности и мистического, внесоциального пространства. Как писал А. Волков в одной из статей “…нужно…углубить все технические возможности, чтобы передать исключительную яркость, мощную цветистость, особую выразительность и особый уклад жизни Средней Азии” (11). Весь пафос его статьи был направлен на утверждение утопических идей автономии живописного пространства: “Нельзя забывать о самом главном – о самой живописи, которая ставит определенные художественно-технические задачи (11). Но, учитывая время, в которое писалась статья, – а это 1928 г. (начавшийся процесс идеологизации искусства, превращения его в инструмент социального переустройства жизни), эта позиция вынужденно дополняется поправками: “Этим я не (по контексту здесь должна быть приставка не, но в рукописи она пропущена. – А.Х.) хочу сказать, что содержание не нужно. Я только подчеркиваю, что хорошо задуманная по содержанию картина требует и хорошей обработки” (11). Лишь в заключительной части своей статьи художник, следуя требованию времени, подчеркивает связь социальных процессов с творческими исканиями: “Техника и индустриализация в жизни и техника в искусстве крепко связаны” (11).
 К концу 20-х – началу 1930-х гг. идеологический прессинг вынуждает художников расстаться с экзотико-ориенталистской утопией. Если судить по картинам художников, то в конце 1920-х гг., а точнее – в 1927 – 1929 гг. – происходит фундаментальное изменение в интерпретации реальности, наступает смена приоритетов – художественное сознание следует за идеологическими установками. Пластические же свойства декоративной живописи еще сохранялись – реализм постигался медленно. Так, в работе У. Тансыкбаева “Портрет узбека” (1934 г.) традиции декоративной живописи 1910 – начала 1920-х гг. еще не совсем забыты, хотя социальные интонации здесь уже иные – достаточно активные, образ наполнен пафосом общественного созидания. Эта футурологическая утопия контрастирует с философией пассеизма в картинах В. Рождественского “Портрет узбека”, выполненной в реалистическом ключе в 1926 г. и сходной по названию и интонации с работой Н. Розанова “Узбек с чилимом” (1927 г.). В этих работах персонажи, трактованные в академической живописной манере, поглощены личными переживаниями и обращены в прошлое (внесоциальная пассеистическая утопия). Таким образом, за 10 лет в живописи Узбекистана произошла своеобразная метаморфоза утопий – от идеализации прошлого к идеализации будущего.
К концу 20-х – началу 1930-х гг. идеологический прессинг вынуждает художников расстаться с экзотико-ориенталистской утопией. Если судить по картинам художников, то в конце 1920-х гг., а точнее – в 1927 – 1929 гг. – происходит фундаментальное изменение в интерпретации реальности, наступает смена приоритетов – художественное сознание следует за идеологическими установками. Пластические же свойства декоративной живописи еще сохранялись – реализм постигался медленно. Так, в работе У. Тансыкбаева “Портрет узбека” (1934 г.) традиции декоративной живописи 1910 – начала 1920-х гг. еще не совсем забыты, хотя социальные интонации здесь уже иные – достаточно активные, образ наполнен пафосом общественного созидания. Эта футурологическая утопия контрастирует с философией пассеизма в картинах В. Рождественского “Портрет узбека”, выполненной в реалистическом ключе в 1926 г. и сходной по названию и интонации с работой Н. Розанова “Узбек с чилимом” (1927 г.). В этих работах персонажи, трактованные в академической живописной манере, поглощены личными переживаниями и обращены в прошлое (внесоциальная пассеистическая утопия). Таким образом, за 10 лет в живописи Узбекистана произошла своеобразная метаморфоза утопий – от идеализации прошлого к идеализации будущего.
 Работы художников 1929-х – начала 1930-х гг. отличает некая примитивность пластики, связанная с процессом сложной и драматической по своей сути адаптации живописных приемов к новым требованиям времени и идеологическим установкам властей. Это картины М. Курзина “В чайхане” (1929 г.), Н. Карахана “Девушки с кетменями” (1931 г.), “Поливальщик” (конец 1920-х гг.), “Сбор пшеницы” (1930 г.), У. Тансыкбаева “Сбор яблок” (конец 1920-х гг.), А. Волкова “Сбор хлопка”. Часть триптиха “Хлопок” (1930 – 1931 гг.) и др. В данном случае примечательно совмещение в одном коротком отрезке времени процесса распада прежних иллюзий мифотворчества на темы дремлющего гедонистического Востока и формирования новых социально-мифологизирующих схем. Природа этого явления, легко наблюдаемого, но, безусловно, не безболезненного для самих художников, определяет своего рода “осевое время” в искусстве региона всего XX в. (12).
Работы художников 1929-х – начала 1930-х гг. отличает некая примитивность пластики, связанная с процессом сложной и драматической по своей сути адаптации живописных приемов к новым требованиям времени и идеологическим установкам властей. Это картины М. Курзина “В чайхане” (1929 г.), Н. Карахана “Девушки с кетменями” (1931 г.), “Поливальщик” (конец 1920-х гг.), “Сбор пшеницы” (1930 г.), У. Тансыкбаева “Сбор яблок” (конец 1920-х гг.), А. Волкова “Сбор хлопка”. Часть триптиха “Хлопок” (1930 – 1931 гг.) и др. В данном случае примечательно совмещение в одном коротком отрезке времени процесса распада прежних иллюзий мифотворчества на темы дремлющего гедонистического Востока и формирования новых социально-мифологизирующих схем. Природа этого явления, легко наблюдаемого, но, безусловно, не безболезненного для самих художников, определяет своего рода “осевое время” в искусстве региона всего XX в. (12).
 Рождение же собственно искусства соцреализма в Узбекистане датируется 1933 – 1934 гг., когда мемориальный стиль предшествующего десятилетия окончательно уступает место новой модели пластической и смысловой интерпретации. Это демонстрируют картины А. Волкова “Стройка кирпичного завода” (1933 г.), У. Тансыкбаева “Автогенная сварка” (1930-е гг.), “Загрузка мартена” (1933 г.), М. Курзина “Бригада деревообделочников” и “Пожарная команда” (обе – 1934 г.) Именно из двух типов восприятия Востока (реальности вообще) – мемориального (гедонистическая утопия) и футурологического (социальная утопия) – сформировался весь последующий спектр пластического языка и жанров искусства Узбекистана. Футурологическая интерпретация, спровоцированная коммунистической идеологией и преобладавшая в искусстве 1930-х – 1960-х гг., получила в постсоветской литературе определение “утопического реализма”. “Изображение действительности в развитии”, то есть в далекой перспективе, – утопический реализм” (13).
Рождение же собственно искусства соцреализма в Узбекистане датируется 1933 – 1934 гг., когда мемориальный стиль предшествующего десятилетия окончательно уступает место новой модели пластической и смысловой интерпретации. Это демонстрируют картины А. Волкова “Стройка кирпичного завода” (1933 г.), У. Тансыкбаева “Автогенная сварка” (1930-е гг.), “Загрузка мартена” (1933 г.), М. Курзина “Бригада деревообделочников” и “Пожарная команда” (обе – 1934 г.) Именно из двух типов восприятия Востока (реальности вообще) – мемориального (гедонистическая утопия) и футурологического (социальная утопия) – сформировался весь последующий спектр пластического языка и жанров искусства Узбекистана. Футурологическая интерпретация, спровоцированная коммунистической идеологией и преобладавшая в искусстве 1930-х – 1960-х гг., получила в постсоветской литературе определение “утопического реализма”. “Изображение действительности в развитии”, то есть в далекой перспективе, – утопический реализм” (13).
 Исходная позитивная эстетика социальной утопии выражается в различных формах: от визуально очевидных, документально-протоколирующих (миф описания 1950 – 1960-х гг.) до отвлеченно абстрагирующих, нередко обнаруживаемых в пограничной зоне с мемориальными концепциями (конец 1980-х – 1990-е гг.). Наиболее известные имена, представляющие эти тенденции в национальном искусстве, – Р. Ахмедов, Н. Кузыбаев, М. Саидов, Т. Оганесов, З. Иногамов, а также модернизировавшие приемы реалистической пластики, но не изменившие ее идеологической сути, живописцы следующего поколения – Р. Чарыев, В. Бурмакин, Ю. Талдыкин, Ю. Мельников, Ю. Стрельников и др.
Исходная позитивная эстетика социальной утопии выражается в различных формах: от визуально очевидных, документально-протоколирующих (миф описания 1950 – 1960-х гг.) до отвлеченно абстрагирующих, нередко обнаруживаемых в пограничной зоне с мемориальными концепциями (конец 1980-х – 1990-е гг.). Наиболее известные имена, представляющие эти тенденции в национальном искусстве, – Р. Ахмедов, Н. Кузыбаев, М. Саидов, Т. Оганесов, З. Иногамов, а также модернизировавшие приемы реалистической пластики, но не изменившие ее идеологической сути, живописцы следующего поколения – Р. Чарыев, В. Бурмакин, Ю. Талдыкин, Ю. Мельников, Ю. Стрельников и др.
Представители этого поколения развивают традиции социальной утопии 1930-х гг., но их картины отличаются от картин предыдущего периода меньшим пафосом, большим углублением в повседневную жизнь и поиском персонального самовыражения. В их работах нет той социальной заразительности и наивного задора, который характерен для картин художников 1930-х гг. – Н. Карахана, У. Тансыкбаева, В. Уфимцева, А. Волкова, А. Николаева, М. Курзина. Справедливости ради следует отметить, что в ряде гротескных работ М. Курзина конца 1920-х – начала 1930-х гг. можно увидеть элементы верещагинской антиутопии. Антиутопические элементы прослеживаются и в тонких по колориту картинах Е. Коровай, посвященных жизни бухарских евреев.
 В целом же антиутопия В. Верещагина осталась невостребованной почти на всем протяжении развития искусства соцреализма в Узбекистане вплоть до конца 1980-х гг., когда традиции нигилистической живописи на волне перестроечной гласности получили своеобразное отражение в картинах А. Нура, А. Икрамджанова, Т. Мирджалилова, Б. Джалалова и других узбекских художников. В них критически оценивалось советское историческое наследие, в том числе события периодов установления советской власти, репрессий, а заложенная в них негативная рефлексия на идеологические символы недавнего прошлого была решительной. Казалось, рушатся последние бастионы социальной утопии, наступает период прагматический, лишенный сентиментальности и лишней баррочности стиля искусства нового времени. Однако последующее развитие живописи, особенно после обретения Узбекистаном независимости и снятия идеологического прессинга, свидетельствовало о неожиданной траектории проявления в ней утопии как инструмента художественности.
В целом же антиутопия В. Верещагина осталась невостребованной почти на всем протяжении развития искусства соцреализма в Узбекистане вплоть до конца 1980-х гг., когда традиции нигилистической живописи на волне перестроечной гласности получили своеобразное отражение в картинах А. Нура, А. Икрамджанова, Т. Мирджалилова, Б. Джалалова и других узбекских художников. В них критически оценивалось советское историческое наследие, в том числе события периодов установления советской власти, репрессий, а заложенная в них негативная рефлексия на идеологические символы недавнего прошлого была решительной. Казалось, рушатся последние бастионы социальной утопии, наступает период прагматический, лишенный сентиментальности и лишней баррочности стиля искусства нового времени. Однако последующее развитие живописи, особенно после обретения Узбекистаном независимости и снятия идеологического прессинга, свидетельствовало о неожиданной траектории проявления в ней утопии как инструмента художественности.
 В искусстве 1990-х – начала 2000-х гг. преобладающей стала гедонистическая утопия, в которой поиск идеального места “у-топос” (которого нет. – А.Х.) воплощался в виртуозно-красивых персонажах и панорамах. Возможно, это была своеобразная реакция на засилье коммунистических идеологем. В этот типологический ряд следует включить не художников, а работы, отражающие их творческое сознание на искомый период времени (это картины И. Мухтарова, А. Нура, Г. Кадырова, Ш. Хакимова, Б. Джалалова, Дж. Умарбекова, Дж. Усманова, Х. Зияханова и др. 1990-х – 2000-х гг.), поскольку для многих из них характерна смена парадигм на протяжении короткого времени. Так, на рубеже 1980-х – 1990-х гг. показательные метаморфозы испытал целый ряд художников, оставивших в прошлом свои антиутопические эксперименты и перешедших в разряд живописцев гедонистической ориентации. Сегодня сторонники мемориальной линии (гедонистическая утопия) увлечены поиском новых пластических приемов автономного пластического значения.
В искусстве 1990-х – начала 2000-х гг. преобладающей стала гедонистическая утопия, в которой поиск идеального места “у-топос” (которого нет. – А.Х.) воплощался в виртуозно-красивых персонажах и панорамах. Возможно, это была своеобразная реакция на засилье коммунистических идеологем. В этот типологический ряд следует включить не художников, а работы, отражающие их творческое сознание на искомый период времени (это картины И. Мухтарова, А. Нура, Г. Кадырова, Ш. Хакимова, Б. Джалалова, Дж. Умарбекова, Дж. Усманова, Х. Зияханова и др. 1990-х – 2000-х гг.), поскольку для многих из них характерна смена парадигм на протяжении короткого времени. Так, на рубеже 1980-х – 1990-х гг. показательные метаморфозы испытал целый ряд художников, оставивших в прошлом свои антиутопические эксперименты и перешедших в разряд живописцев гедонистической ориентации. Сегодня сторонники мемориальной линии (гедонистическая утопия) увлечены поиском новых пластических приемов автономного пластического значения.
 Как пример современной антиутопической, но эстетически утонченной и изящной лексики нами рассматривается картина Т. Ахмедова “Ярмарка тщеславия”, созданная в рамках проекта “Тетрагон” в 2007 г. (14). Сознательная измельченность и детализация, траурная бархатистость изумрудно-пурпурной и сине-желтой гамм демонстрируют своего рода эманацию шпленгеровской идеи Заката. Но Заката не Европы, а восточной цивилизации, вкусившей в ХХ в. запретный плод циничной антиутопии с ее либеральными ценностями западного образца. Лодка паромщика, переправляющая души в пустоту духовного небытия (место, которое существует в отличие от утопии – антиутопическая альтернатива), растаяла в мириаде светящихся и мерцающих бликов, звезд, фрагментов мироздания. Художник выстраивает некую симбиозную форму антиутопии, в которой восточная и европейская традиции смешиваются в нерасчленимом нравственном дискурсе, символически обозначающем цивилизационный апокалипсис и соответственно – конец уже самого искусства как утопической конструкции.
Как пример современной антиутопической, но эстетически утонченной и изящной лексики нами рассматривается картина Т. Ахмедова “Ярмарка тщеславия”, созданная в рамках проекта “Тетрагон” в 2007 г. (14). Сознательная измельченность и детализация, траурная бархатистость изумрудно-пурпурной и сине-желтой гамм демонстрируют своего рода эманацию шпленгеровской идеи Заката. Но Заката не Европы, а восточной цивилизации, вкусившей в ХХ в. запретный плод циничной антиутопии с ее либеральными ценностями западного образца. Лодка паромщика, переправляющая души в пустоту духовного небытия (место, которое существует в отличие от утопии – антиутопическая альтернатива), растаяла в мириаде светящихся и мерцающих бликов, звезд, фрагментов мироздания. Художник выстраивает некую симбиозную форму антиутопии, в которой восточная и европейская традиции смешиваются в нерасчленимом нравственном дискурсе, символически обозначающем цивилизационный апокалипсис и соответственно – конец уже самого искусства как утопической конструкции.
 В разряд современных антиутопий включаются и артефакты актуального искусства с характерной восточно-постмодернистской интонацией. Причем в масштабах центральноазиатского региона философия антиутопии принимает больший размах и интенсивность. Наиболее радикальны антиутопические оценки казахстанских художников – Е. Мельдибекова и А. Менлибаевой, использующих в качестве метафорического материала этнокультурный номадический пласт. Антиутопия кыргызского актуалиста У. Джапарова менее агрессивна, но также достаточно выразительна. В Узбекистане – это отдельные работы А. Николаева, С. Тычины и др., более завуалировано антиутопические элементы выражаются в инсталляциях и видеоработах Ю. Усеинова и Дж. Усманова. Молодые узбекские актуалисты (Ш. Раджамов, С. Джаббаров, Д. Разиков, Н. Шарафходжаева и др.) не склонны педалировать свои социальные предпочтения, ограничиваясь поиском метафорических медитаций, хотя в их работах можно видеть достаточно акцентированные элементы десакрализации прежних ценностей. Антиутопия достаточно выразительно была представлена в фотоколлажах А. Салиджанова и диптихе “Цитата из И. Бродского”, созданном творческой группой во главе с автором этих строк в рамках выставочного проекта “Туркестанский римейк” в 2009 г.
В разряд современных антиутопий включаются и артефакты актуального искусства с характерной восточно-постмодернистской интонацией. Причем в масштабах центральноазиатского региона философия антиутопии принимает больший размах и интенсивность. Наиболее радикальны антиутопические оценки казахстанских художников – Е. Мельдибекова и А. Менлибаевой, использующих в качестве метафорического материала этнокультурный номадический пласт. Антиутопия кыргызского актуалиста У. Джапарова менее агрессивна, но также достаточно выразительна. В Узбекистане – это отдельные работы А. Николаева, С. Тычины и др., более завуалировано антиутопические элементы выражаются в инсталляциях и видеоработах Ю. Усеинова и Дж. Усманова. Молодые узбекские актуалисты (Ш. Раджамов, С. Джаббаров, Д. Разиков, Н. Шарафходжаева и др.) не склонны педалировать свои социальные предпочтения, ограничиваясь поиском метафорических медитаций, хотя в их работах можно видеть достаточно акцентированные элементы десакрализации прежних ценностей. Антиутопия достаточно выразительно была представлена в фотоколлажах А. Салиджанова и диптихе “Цитата из И. Бродского”, созданном творческой группой во главе с автором этих строк в рамках выставочного проекта “Туркестанский римейк” в 2009 г.
 Новую типологию утопического сознания демонстрируют последние работы Б. Джалалова на космогоническую тему. В них технократическая полихромная пластика и футурологический дизайн нацелены на своеобразную “реконструкцию будущего” – у-топоса – несуществующей реальности. Образцы такой сознательной футурологической утопии представлены в его последнем проекте “Восторг Безмолвного свидетеля”, состоящем из 4 разделов:
Новую типологию утопического сознания демонстрируют последние работы Б. Джалалова на космогоническую тему. В них технократическая полихромная пластика и футурологический дизайн нацелены на своеобразную “реконструкцию будущего” – у-топоса – несуществующей реальности. Образцы такой сознательной футурологической утопии представлены в его последнем проекте “Восторг Безмолвного свидетеля”, состоящем из 4 разделов:
- 1. Союз Неба и Земли.
- 2. Легенда о Наврузе.
- 3. Тайна белой ночи.
- 4. Шамбала.
Проект демонстрировался на его персональной выставке в 2008 г. в Ташкенте. Конструирование утопической реальности завершается созданием актуальной, визуально-осязаемой художественной среды, обретающей формы антиутопии – реализованного топоса.
 Итак, общая динамика проявления дихотомии “утопия – антиутопия” в живописи нашего региона достаточно сложна и в известном смысле противоречива. Схематически по вертикали она может быть выражена следующим образом – от антиутопии В. Верещагина середины XIX в. до антиутопии конца перестроечного периода, от утопии Н. Каразина до социальных утопий искусства соцреализма, от гедонистических конструкций в живописи А. Исупова, А. Николаева, А. Волкова, О. Татевосьяна до поэтико-метафорической живописи художников Узбекистана 1990-х – 2000-х гг. Но были и горизонтальные пересечения – в одно и то же время наблюдается сосуществование двух этих разнонаправленных полюсов художественного мировоззрения, что также составляет суть и особенность развития национального искусства. Причем в определенные периоды (с 1930 по 1960-е гг.) функционирования тотальной идеологической системы утопия в искусстве принимает массовый характер (преобладает социальная утопия). В последующие годы на первый план выходит утопия индивидуального порядка (преимущественно эстетическая, культурологическая), адекватная процессу закономерной персонализации творческого процесса.
Итак, общая динамика проявления дихотомии “утопия – антиутопия” в живописи нашего региона достаточно сложна и в известном смысле противоречива. Схематически по вертикали она может быть выражена следующим образом – от антиутопии В. Верещагина середины XIX в. до антиутопии конца перестроечного периода, от утопии Н. Каразина до социальных утопий искусства соцреализма, от гедонистических конструкций в живописи А. Исупова, А. Николаева, А. Волкова, О. Татевосьяна до поэтико-метафорической живописи художников Узбекистана 1990-х – 2000-х гг. Но были и горизонтальные пересечения – в одно и то же время наблюдается сосуществование двух этих разнонаправленных полюсов художественного мировоззрения, что также составляет суть и особенность развития национального искусства. Причем в определенные периоды (с 1930 по 1960-е гг.) функционирования тотальной идеологической системы утопия в искусстве принимает массовый характер (преобладает социальная утопия). В последующие годы на первый план выходит утопия индивидуального порядка (преимущественно эстетическая, культурологическая), адекватная процессу закономерной персонализации творческого процесса.
 Литература
Литература
1. Махмудов Т. Олий малакали санъатшунос ва меъморшунос олимлари тайёрлаш муаммоси // Санъатшунослик масалалари. Вып. III. Ташкент, 2006.
2. Берг М. Литературократия. Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе. М., 2000.
3. Рубинштейн Л. Уже ничего. http://www.grani.ru/Politics/Russia/m.131397.html от 17.12.2007.
4. Гройс Б. Что такое современное искусство. Лекция-встреча с Борисом Гройсом 18 июня 1996 г. в Зубовском институте. Петербург // http://azbuka.gif.ru/important/contemporary-art-groys/).
5. Обратная сторона утопии: Борис Гройс об искусстве, дизайне и демократии // http://artinvestment.ru/news/artnews/20081122_boris_groys.html ARTinvestment.RU – 22.11.2008).
6. Беспалова И. В. Традиция и утопия в художественной культуре постмодернизма. Дисс. … канд. филос. наук. Нижний Новгород, 2007.
7. Якушева Н. Б. Трансформация утопии в антиутопию в культуре XX века. Дисс. … канд. филос. наук. Санкт-Петербург, 2001.
8. Хакимов А. Социальные утопии как художественная парадигма в искусстве Узбекистана 1920 – 1930-х годов // Социальная жизнь народов Центральной Азии в первой четверти ХХ века: традиции и инновации. Материалы Международной конференции. Ташкент, 2009.
9. Антология живописи Узбекистана. Ташкент, 2009.
10.Каримова Н. Проникновение кинематографа в исламскую среду Туркестана в начале ХХ в. // Исламские искусство Узбекистана. Ташкент, 2009.
11.ЦГА РУз, ф. Р-394, оп. 1, д. 338, л. 18. Статья художника А. Волкова.
12.Хакимов А. Миф и реальность в искусстве Узбекистана // San’at, 1998, №1.
13.Берг М. Литературократия. Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе. М., 2000.
14.Хакимов А. Похищение реальности как приближение к смыслу // San’at, 2007, № 3.
Акбар Хакимов