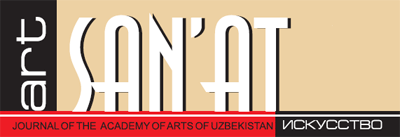В журнале “SAN’AT” (1/99) была опубликована статья искусствоведа А. Хакимова, посвященная живописи Узбекистана 1990-х гг. Ознакомившись с содержанием текста, можно занять две позиции: либо уважительно резонировать по поводу поставленного диагноза, либо отважиться на собственную интеллектуальную диагностику. В последнем случае для меня, художника, предпочтителен непосредственный творческий опыт, который позволяет относиться к творчеству не как к объекту стороннего созерцания.
90-е годы отмечены в вышеназванной статье возникновением в живописи Узбекистана движения под названием “новая волна”. Однако, на мой взгляд, этот период был далек от обновленческих тенденций, характерных для мирового искусства XX столетия. Высокий художественный уровень и международный пафос изобразительного искусства для художников Узбекистана оказался явно недостижимым. И если А. Хакимов объясняет известную эволюционность, “особенностями историко-культурного генезиса народа”, то почему тогда она затронула и узбекистанских художников с иными этнокультурными корнями?
“Новая волна” как очередная ступень развития изобразительного искусства на самом деле оказалась не настолько сильна; ее не спасли ни косметические новации с привлечением этнокультурных элементов, ни прямые заимствования извне, вышедшие к этому времени из употребления.
Сталкиваясь на выставках с многочисленными интерпретациями интерпретаций, ощущаешь бессмысленную вереницу повторений – бесконечное единое живописное полотно, в котором невозможно отыскать феномен. Здесь трудно усмотреть поиск новых идей, наяву опасное стремление руководствоваться заранее установленными целями.
“Новая волна” 90-х выглядит скорее как неудачная попытка кодифицировать сдвиги произошедшие в общественном сознании. Главное ее достижение в том, что она определила необходимые предпосылки для обновления художественной жизни, для поиска иных систем художественного мышления и футурологических идей.
Вместе с тем, несмотря на инерцию художественного мышления, все же можно отыскать неизбежное диалектическое движение к обновлению. Похвально и ориентирование художников на осмысление собственного уникального историко-культурного опыта, понимание, что творческий опыт обращает художника к самому себе, открывает человеческий облик вещей, выражая тем самым гармоничное единство человека и природы, позволяя вернуться к исконному, непотребительскому отношению к ней.
Весьма любопытный оказалась предложенная в вышеупомянутой статье “известная классификация, основу которой составляют мировоззренческие особенности и принципы художественной философии”. Первая группа симбионтов “новой волны” обозначалась как “версия дидактической мифологии” и “социальной дидактики”, вторая – “индифферентная”, “исключающая оценочную характеристику реальности” в своем творчестве.
Основу предложенной классификации во многом определило логически выстроенное прочтение работ с учетом их стилистики. Отсюда вьется прочная цепочка неясностей: так, лишенная пластической экспрессии работа “Похищение Европы” Н Шоабдурахманова “приписывается” второй, “индифферентной” группе, а произведения с аналогичным сюжетом и названием, написанные Б. Джалалом и. В. Кимом с определенной долей экспрессии и урбанизацией форм, отнесены к первой, “дидактической” группе, ибо они отличаются “гротесковым стилем” и в них присутствует “подчеркнутое развенчание культурных ценностей прошлого, причем прошлого не своего, не азиатско-восточного, а европейского, чуждого по своему происхождению”. Традиция противопоставлять родное всему прочему у нас давняя, но никакого – “чуть ли не эстетического вандализма, когда речь идет о культурном материале инонационального генезиса”, не видится в трактовках греческой легенды. Можно лишь констатировать далеко не новый ноумен и синкретизм пластической интерпретации расхожей темы с элементами игры, когда “играет сама игра, втягивая в себе игроков” (Гадамер). Ее цель – войти в мир истории и создать новую естественность в подходе к мифологичности, не лишенного доли легкой ироничности и интеллектуальной отстраненности, пребывания над логическими и временными причинными связями. Художники явно пытались использовать неформальный язык и собственную самодостаточность.
Попытка классифицировать результат художественного творчества заслуживает внимания в контексте историзма, а не сопоставления, тем более что в западном искусствоведении давно выработалась практика кодифицировать работы художников в зависимости от их принадлежности к стилистике той или иной художественной школы, например, сюрреализм, сезаннизм, неоэкспрессионизм, неокубизм, трансавангард, символизм, школа анахронистов, соцреализм, неопримитивизм, натуралистически-магическая, концептуально-эксцентрическая и прочие школы. В этом случае все бы встало на свои места и имело свои строго очерченные рамки.
Известно стремление художников опереться в своем творчестве на те или иные предшествующие достижения. Однако наши мастера кисти стремятся скорее “затемнить”, чем прояснить его изначальные корни и “прописку”. В большинстве случаев “загадки” легко разрешимы, так как являются по сути своей не духовным движением, а интеллектуальной разноголосицей, рассчитанной на простоту и наивность веры. С подобной позиции живопись 90-х годов выглядит зачитанными до дыр чужими текстами, вновь и вновь предлагаемыми зрителю с незатейливым лукавством. Некоторые работы совершенно легко могут быть идентифицированы со своими прототипами, поверхностно усвоенными художниками, судя по книжным закладкам в многотомной истории искусства. Здесь можно отыскать все: от дурно стилизованных средневековых пещерных фресок из уйгурского Хотана до живописи московского приволья 80-х годов. Безудержное стремление к успеху и превращение поиска в формальный прием, и, а это весьма заметно, плохое знание предмета собственного увлечения обычно мешают. Не надо забывать, что произведение искусства создается не только с помощью освоения школьных, непременно нужных премудростей, детального анализа специфики того или иного художественного направления, но и через подсознательный, импульсивный акт творчества (совокупность феноменов сознания, обладающих социокультурным и индивидуальным содержанием).
Всякая научная истина и голый практицизм, отделенные от творческого экстаза, вторгаясь в природу творчества, превращаются в безличное и теоретическое, в спекуляцию. Разделение творческого процесса на голые факты и заимствования, другими словами – неспособность художника к индивидуальному творческому переживанию на основе предшествующего опыта (сотворчество), гарантирует объективную причину, потери своей ментальности и, как следствие, тягу к многочисленным заимствованиям и бесчисленным тавтологиям, которые не подтверждают собственную художественную ценность. В этом случае забывается, то, что нужно непременно помнить: только в непосредственном творческом процессе (экстазе), заключено то, что мы называем личностным, применимым только к данному конкретному индивиду то, что постоянно ускользает из нашего поля зрения и которое невозможно заключить в тиски логических абстракций.
Надо помнить, что художник по своей природе не философ или учитель-проповедник с его назидательной интонацией. Ему незачем и некого поучать. Философия, а с ней и “вселенские идеи, и универсальные ценности” – не его стихия. В первую очередь он реально существующая личность, творец, имеющий персональные претензии, питающие его творчество, о которых он должен забыть на сакральном уровне.
Мое опасение безличного, объективированного знания, закрывающего путь к постижению творческой полноты опыта, не напрасно. Нравственное состояние Художника с его бесконечной “игрой” в “творца” опасно перерастает в механическую фазу, обессмысливающую всякий свободный выбор, приводя к пороку “механического сознания”, порождая доморощенный позитивизм и пассеизм. Художников подчас раздирают противоречия и подкупает механистическая слаженность, мешающая найти свой свободный голос и творческое наитие – тот яркий пример единства сознания и бытия, потери интуиции. Их суетливый гносис совпадает с нежеланием жить художественными инстинктами, и импульсами, возникающими в абсолютном пространстве воображения. Прагматичное сознание, наполненное предшествующим опытом, не позволяет освободиться от навязанных пут, ввергая в тотальность бытовой разноголосицы, порождая глубокую индифферентность и ничем не подтвержденный “позитивизм” – примета характерная и затянувшаяся при явном отсутствии сомнений, неудовлетворенности и стремления к переоценке ценностей.
Открытость и демократия в художественной жизни Узбекистана создали предпосылки зарождения нового в искусстве и, парадокс(!) условия, когда занятие искусством является в большой степени практикой выживания. В начале 90-х годов, когда возникла естественная реакция художников на открытость в обществе, подавляющее их большинство так и не смогло ощутить себя в новом, а отсюда – некомфортном культурном пространстве. Современное бытие, провозгласившее ценность и своеобразие национальной культуры на фоне нарастающего интернационального характера мировой культуры, породило своего рода культурный консерватизм.
Высказанное в данной статье во многом вызвано острой необходимостью культурного диалога между художниками и теоретиками в целях плодотворного поиска профессиональных подходов в сотрудничестве и выработки тактики по осуществлению совместных проектов. Актуальные проблемы развития современного национального изобразительного искусства требуют дальнейшего осмысления.
Литература:
1. Хакимов А. Синие кони – желтый павлин: идиоматика живописи 1990-х годов // SAN’АТ, 1999. № 1 (ссылки на излагаемый текст в статье А. Хакимова выделены курсивом).
Вячеслав Ахунов